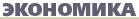|
|
||||||||||||||||||||||
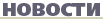
|
Текст #000281
Так что же, вы вправе спросить у меня: о негативном в документальном кино — ни-ни? О нет! Не видя недостатков своих (а где их нагляднее, чем в документальном кино, увидишь!), запнешься, застрянешь, захряснешь. Так что спасибо документалистам, которые возбуждают общественное мнение против негативных явлений сегодняшнего нашего бытия. Будем знать, от чего очищаться, — очистимся. Только знание это должно быть выверенным и точным. Прежде всего у тех, кто ставит фильмы на социально-экономические темы, кто пишет сценарии для них.
|
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||

map |